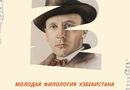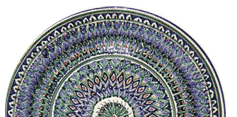| Мы освещаем новости культуры Узбекистана: театр, кино, музыка, история, литература, просвещение и многое другое. | 
|
|
|
|
20.11.2025 / 10:59:07
Пока звучит дыхание клавиш: концерт Сайёры Гафуровой На прошедшей неделе, 12 ноября 2025 года в Большом зале Государственной консерватории Узбекистана произошло то редкое событие, когда музыка становится не просто искусством, а живым дыханием времени, внутренним опытом, который связывает в одно целое прошлое и настоящее. Вечер классической музыки под звучным названием «Эволюция фортепианного концерта от Баха до Чайковского» стал одновременно и музыкальным путешествием сквозь эпохи, и искренним посвящением всем тем, кто сформировал творческую судьбу Сайёры Гафуровой, одной из ведущих пианисток Узбекистана, профессора, учёного, педагога и вдохновительницы множества музыкальных проектов.
Зал был заполнен до последнего места. С первых минут чувствовалось особое ожидание — не только увидеть мастерство известной пианистки, но и прикоснуться к её внутреннему миру, услышать музыку так, как умеет раскрывать её именно она: деликатно, глубоко, искренне. Когда солистка вышла на сцену, в её походке, в её спокойствии и в благородной собранности сквозило то особое достоинство, которое невозможно сыграть или сымитировать — это осознанный результат многолетнего пути, сотен концертов, тысяч часов внутренней работы и удивительной верности искусству. Программа концерта была выстроена как живая линия развития фортепианного жанра, от строгой архитектуры эпохи барокко до свободного, масштабного дыхания романтизма. Но в этот вечер историческая логика стала лишь фоном: главным была сама интерпретация, то, как Сайёра Гафурова проживала каждое произведение. Казалось, она не играет музыку, она оживляет её, как будто дарит слушателям её заново. Начало вечера ознаменовал Концерт фа минор Иоганна Себастьяна Баха. В интерпретации Гафуровой был слышен не музейный академизм, а внутренний свет, мудрость и мягкое, почти материнское понимание музыки Баха. Она играла строго и при этом нежно; каждое движение кисти звучало как самостоятельный жест смысла. Звуки были прозрачными, но наполненными; строгость формы сочеталась с глубокой человечностью. В её прикосновениях к клавиатуре было что-то почти духовное, ненавязчивое, но ощутимое, словно она делилась с залом тем опытом, который накапливается десятилетиями общения с баховским наследием. Государственный симфонический оркестр (художественным руководителем и главным дирижером которого является, народный артист Республики Узбекистан, профессор Камолиддин Уринбаев) под управлением Аббосбека Вахобова вступал с Сайёрой Гафуровой как идеальный собеседник: ненавязчиво, бережно, но предельно точно. Вахобов, обладая тонким чувством меры, не позволял оркестру перекрыть солистку или доминировать, но и не растворял его полностью — создавая ту самую тонкую грань баланса, так редко встречающуюся в исполнениях баховских концертов.
Финал Концерта ре мажор Гайдна прозвучал по-особенному светло. Гафурова играла его с почти юношеской свежестью, позволяя звучанию свободно струиться, дышать. Было в её игре что-то улыбающееся, лёгкое, искреннее. Но эта лёгкость никогда не становилась поверхностной — внутренняя интеллектуальная глубина, присущая пианистке, не исчезала ни на мгновение. Музыка Гайдна в её руках превращалась в живой диалог света и движения, а оркестр поддерживал эту атмосферу, будто подсвечивая каждую фразу тонкими, точными штрихами. Следующим прозвучал Моцарт, его драматический Концерт ре минор, стал первой крупной эмоцией вечера. Гафурова раскрыла в нём трагическую природу музыки так деликатно, что драматизм становился не внешней экспрессией, а внутренним переживанием. В её исполнении слышалась настоящая откровенность — она играла не просто ноты, а саму суть внутреннго мира композитора, его боль, его стремление к свету через тень. В каденции концерта, которую написал Людвиг ван Бетховен, вписанной в партитуру Моцарта, особенно ясно прозвучала идея преемственности: Гафурова создала впечатляющий образ перехода от одного гения к другому, будто став своеобразным мостом, соединяющим эпохи. Оркестр в этой части был удивительно гибким: он дышал вместе с солисткой, а маэстро Вахобов позволял музыке рождаться естественно, не сдерживая её, но направляя и структурируя, словно художник, который подчеркивает линии мастера лёгким касанием кисти. Вторая часть Четвёртого концерта Бетховена стала, пожалуй, одним из самых интимных мгновений вечера. Зал буквально затаил дыхание. Здесь Гафурова раскрылась как философ, как человек, умеющий заглянуть в глубины звука. Это было исполнение не внешнее, а внутреннее, почти исповедальное. Пианистка создала такую мягкую, прозрачную кантилену, что казалось, будто музыка вырастает из тишины, из каких-то глубин души. Оркестр, вступающий в этой части как мощный контраст, не рушил этот хрупкий мир, а, напротив, подчёркивал его — не спорил с солисткой, а вел с ней диалог на равных, что особенно важно в этом произведении. После Бетховена наступил Шопен, и атмосфера зала будто изменилась. То, что происходило в исполнении Первого концерта ми минор, можно описать как рождение романтического сердца вечера. Солистка играла Шопена так, как можно играть только тогда, когда в музыке не ищешь внешней красоты. Её игра была полна внутреннего тепла и нежности. В каждом звуке слышалась любовь к музыке, уважение к стилю, но главное — личное, искреннее чувство. Лирика Шопена в её интерпретации звучала не болезненно и не надрывно, а удивительно честно, глубоко. Она словно говорила: «Вот она, человеческая эмоция — тихая, немного хрупкая, но бесконечно настоящая». Оркестр в этой части не просто сопровождал, а буквально поддерживал солистку, как партнёр, знающий каждое её движение. Он создавал пространство для дыхания, света, глубины, и этим подчеркивал тончайшие оттенки её игры. Финал вечера ознаменовали II и III части Второго концерта Петра Ильича Чайковского — это был подлинным апофеоз. Для Сайёры Гафуровой этот концерт — судьбоносный; она первая и пока единственная пианистка Узбекистана, исполнившая его целиком. В её интерпретации чувствуется, что она владеет этим материалом не только технически, но и духовно, осмысленно, прожито. Вторая часть прозвучала по-настоящему камерно и тепло. Гафурова играла так, будто слушала дыхание каждого инструмента, будто слышала не только музыку, но и их внутреннюю речь. Третья часть принесла залу настоящий триумф. Здесь солистка предстала как артистка огромного темперамента, силы духа и безупречной техники. Её виртуозность не имела ничего общего с холодной демонстрацией мастерства. Она была живой, одухотворённой, музыкальной. Оркестр отвечал ей с полной отдачей. Вахобов вел коллектив уверенно, но гибко, позволяя солистке творить, устремляться вперёд, расширять дыхание финала. В то же время он держал рамку формы, создавал тот мощный симфонический фундамент, на котором так уверенно и ярко сияла партия фортепиано.
Когда прозвучал последний аккорд, зал взорвался аплодисментами. Это была благодарность не только за мастерство, но и за искренность, за то эмоциональное путешествие, которое Сайёра Акмаловна подарила каждому слушателю. Её игра оставила ощущение очищения, внутреннего приподнятого состояния, того редкого вдохновения, которое приходит только после встреч с подлинным искусством. Этот вечер стал не просто концертом, а целым художественным высказыванием, выражением пути, мысли и сердца артистки, которая умеет соединять прошлое с будущим, традицию с новаторством, академическую строгость с человеческой теплотой. Гафурова вновь доказала, что её творчество — это не только техника, стиль или опыт, но прежде всего — глубокое, тонкое, деликатно прекрасное чувство, которое делает её игру уникальной и незабываемой. Сабина Гимадиева,студентка 1 курса магистратурыГосударственной консерватории Узбекистана
|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||